Она прекрасна. Она прекрасна, как может быть прекрасно только нечто по-настоящему нечеловеческое. Каждое её движение, каждый изгиб её тела — есть в них нечто совершенно нечеловеческое, неземное, нечто такое, чем не обладают создания, полностью принадлежащие этому миру и слишком тяжёлые для мира другого. А в ней есть всё. И поэтому она прекрасна настолько, что от каждого её движения, от того, как она прыгает с камня на камень, как изгибается, как приходят в движение её длинные волосы, и как поднимается её тонкий подбородок, а главное — в её взгляде, у него захватывает дух. В ней, выглядящей, казалось бы, как человек, не просто есть нечто отчётливо нечеловеческое — в ней почти нет ничего человеческого. И это завораживает, и это красиво, и это приятно — просто смотреть на неё. Это так приятно, что почти невыносимо. Как может существовать нечто настолько прекрасное? Как может быть похоже на человека то, что не знает и не желает даже прикосновения человека — поросших лесом гор, сливовых садов, бьющегося о скалы моря?
Боится ли он? Не вполне. Даже когда она совершает стремительный прыжок, он не испытывает того настоящего, человеческого страха. На это есть не одна причина, и он перебирает эти причины, как высохшие лепестки, когда подаренные им же гортензии с далёкой родины покрывают его с ног до головы, не дают ему ни видеть, ни слышать — что уж там, он едва может дышать, и каждый его вдох наполнен запахом гортензий, настолько сильным, что кажется, будто сейчас у него закружится голова. Причины же эти…
Первая: маг не имеет права на страх — в особенности маг, который имеет дело со смертью. Стоит единожды испугаться, и Идзанами навеки встанет за твоим плечом, пока однажды не уведёт тебя за собой. Страх — непозволительная роскошь для него и его искусства.
Вторая: он уже сделал подарок. И если он что-то ещё понимает в законах мироздания, велики шансы, что отсутствие сделки не только приводит её в ярость, но и останавливает от того, чтобы уничтожить его. Ведь тогда она не заплатит в ответ, а разве она не должна отдарить за подарок, который приняла? Как знать, может отсутствие сделки и бережёт его? Что помешает ей прихлопнуть его, как вредителя, позарившегося на её цветы, когда она выполнит свою часть уговора?
Может быть, он не прав, может быть, она живёт совсем иными законами, но эта теория имеет право на существование — и совсем скоро он проверит, так ли это. Тем более что для таких, как он, смерть — далеко не всегда конец, и как знать, сможет ли даже эта прекрасная, как рассвет, бесчеловечная женщина разорвать самую нежную и крепкую его любовную связь — со Смертью.
Третья: он хорош собой. И, кажется, даже у неё он вызвал не вполне отвращение — природа его силы противна ей, но не он сам. У него есть шансы, и шансы неплохие, разве не так?
Он не видит её, но даже за шелестом лепестков слышит ставшие отчётливыми шаги и шорохи: она, его безжалостная возлюбленная совсем рядом, и он мог бы прикоснуться к ней. Она сама может прикоснуться к нему. Он шумно вздыхает, потому что цветы мешают дышать — или, может, оттого что одно её присутствие повергает его в это бешеное волнение, как если бы он впервые оказался наедине с женщиной, причём женщиной безоговорочной прекрасной.
Но ведь она и правда безоговорочно прекрасна. Она так прекрасна, что он рядом с ней он как будто впервые встретил женщину. Нет: он действительно впервые встретил женщину. Таких, как она, он прежде не знал и видел, и значит всё это — впервые. Он мог бы улыбнуться и сказать, что правила и правда таковы, но он сам ничего не просил и ничего не принимал — так уж забавно вышло. Но цветы мешают ему даже дышать, и он молчит, оглушённый их запахом, пока она не пожелает получить от него настоящий ответ. Он только улыбается — и издаёт нечто похожее на согласное хмыканье, которое могло бы быть смехом, не спеленай она его так старательно.
Он чувствует едва заметные прикосновения через одежду и думает, что бы они означали, но спрашивать не приходится: рывком его погружает во влажную землю, и там, глубоко под собой, он чувствует старую-старую смерть — она тянется к нему тонкой струйкой, как будто хочет поддержать его и придать ему сил. Может быть, так и есть. Может быть, ему просто кажется, потому что это хорошо знакомый и привычный для него источник силы. Он окружён бушующей, яростной жизнью — и всё же где-то там, под ним, всегда есть место для смерти. Разве не в одном этом заключена вся суть их мира?
Она не пытается утянуть его под землю и разорвать его корнями деревьев — она всё ещё держит его на поверхности, и утянуло его не так уж глубоко. А значит… всё ещё далеко не кончено.
Она рядом. Она ходит тут и там. Она не прикасается к нему, но и не отходит далеко. Она и не думает бросить его и раствориться в темноте. Она расхаживает вокруг него, как хищный зверь, который не знает, вонзить ли ему зубы или сбежать — и не делает ни того, ни другого. А затем он, наконец, не столько чувствует, сколько по колыханию побегов угадывает движение её рук, а после — наконец, видит её снова. Он смотрит ей прямо в глаза, сияющие звериным огнём, и она так близко, что ему тяжело дышать, несмотря на то, что ночной воздух врывается в его лёгкие.
— Да, — выдыхает он.
Да. Да, он хочет, чтобы она отблагодарила его, хотя он не представляет, какая благодарность была бы достаточной, чтобы удовлетворить его и его жажду, которую она возбуждает в нём.
Но она исчезает, прежде чем ему удаётся придумать то, чего он так жаждет, к чему тянется его сердце и никак не может найти. Хироки тяжело вздыхает, когда цветы снова закрывают ему лунный свет — и её. Что он видел на её лице, прежде чем она снова отказалась смотреть на него? И почему она прячет его от себя, хотя перед этим раз за разом доказывает, что хотя бы внешне он приятен ей? Даже если она злится — а он слышит, что она злится, и хотелось бы ему знать причину, чтобы развеять её с лёгким и беззаботным смешком, — почему не хочет смотреть? Если что-то в нём настолько ей неприятно, то следует хотя бы посмотреть на его лицо: это доставит ей хоть какую-то радость. А ещё лучше — коснуться его.
В следующий раз его собственный подарок почти выпускает его — ложится на его плечи плащом, но не отпускает окончательно. Он вдыхает полной грудью и наконец чувствует что-то кроме аромата гортензий. А главное — он видит её.
— Нет, — сперва он говорит это чуть слышно. — Нет, — он качает головой и отказывает каждому её предложению, потому что в них нет ничего особенного. Разве могут все эти бессмысленные посулы соблазнить того, кто стоит перед ликом чего-то настолько прекрасного? — Нет.
Она прикасается к нему, и вдох, который он должен был сделать спокойно, становится шумным и прерывистым, как будто она вырвала этот вдох из его груди. Он тянется за ней, но может только покачнуться на месте и приподнять подбородок, потому что земля не выпускает его. Считать ли это её желанием не выпускать его? Ведь если прекраснейшая хозяйка полей и лесов заключена во всем, что принадлежит ей, то можно считать, что это она держит его так же крепко, как если бы её белые руки оплели его в страстных объятиях, запрещая ему уходить. Как это было бы сладко!
Обними меня! Прикоснись ко мне! Прикажи остаться рядом с тобой!
Он смотрит на неё с отчаянием, и тем больше его отчаяние, чем дальше от истины её вопросы. Разве она видит, что всё это ему ни к чему?
— Нет, госпожа моя, — он говорит тихо и смотрит на неё с такой тоской, что слёзы почти подступают к его горлу, душат его и не дают ему говорить, но так и не подступают к глазам — может, какое-то время его глаза блестят ещё ярче, чем обычно, но и только. Он вдыхает, и он выдыхает, и он не может больше дышать ровно и глубоко. Всего этого, всего, о чём она говорит, чем пытается искушать его, у него в достатке. Ему это ни к чему. Хироки опускается перед ней на колени, касается ладонями холодной земли, склоняет голову, чтобы чёрные волосы скользнули по лицу и закрыли его, и затем снова смотрит на неё — с восторгом, упоением и отчаянием: никогда она не будет принадлежать ему! Но даже если так… — Подарок, который ты сама пожелаешь вручить, был бы самым ценным, чем я когда-либо владел. Но он не порадует, если сам дарящий не рад. Позволь мне позабавить тебя. Порадовать тебя, — волосы падают ему на лицо, но он только дёргает головой, чтобы сбросить их, и смотрит на неё. — Скажи, что я могу сделать для тебя. Разве я не могу сделать так, чтобы ты улыбнулась мне? Кажется, моего подарка было недостаточно, чтобы заслужить эту улыбку.
Любовь моя. Недосягаемая, неподкупная, невыразимая, неподвластная, невозможная — но всё-таки моя!
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •







































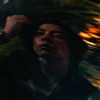
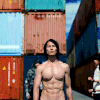


















 Ши — хорошо дрессированная собака, отлично знающая и команды, и где её место. Сутенер говорит “к ноге”, и она бежит, имитируя довольную улыбку. На лице всё то же слепое равнодушие. Ши, как и многие в этой профессии, — всего лишь кукла. Её можно трогать, можно ласкать, можно бить.
Ши — хорошо дрессированная собака, отлично знающая и команды, и где её место. Сутенер говорит “к ноге”, и она бежит, имитируя довольную улыбку. На лице всё то же слепое равнодушие. Ши, как и многие в этой профессии, — всего лишь кукла. Её можно трогать, можно ласкать, можно бить. 
 и как вы можете понять, отношения у нас не очень, потому что сына-корзина сплошь разочарование. вместе со мной у тебя ещё 4 опездола, один, правда, рипнулся моими стараниями
и как вы можете понять, отношения у нас не очень, потому что сына-корзина сплошь разочарование. вместе со мной у тебя ещё 4 опездола, один, правда, рипнулся моими стараниями  ну ещё нарожаешь, ничего страшного, климакс у ликанов попозже наступает. у меня нереальное предложение харакать в меня во флуде и постах, хз, как от такого можно отказаться. но ес честно, то в кармашке целая арка припрятана. тут только одна загвоздка — вся туса-джуса происходит на территории Шотландии и Англии и видение шерстяных пидорасов у меня своё. если интересует, то велком
ну ещё нарожаешь, ничего страшного, климакс у ликанов попозже наступает. у меня нереальное предложение харакать в меня во флуде и постах, хз, как от такого можно отказаться. но ес честно, то в кармашке целая арка припрятана. тут только одна загвоздка — вся туса-джуса происходит на территории Шотландии и Англии и видение шерстяных пидорасов у меня своё. если интересует, то велком 



























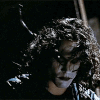







 ;
;






































